Интервью
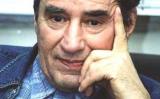
Спартак Мишулин: «Людям надо говорить хорошие слова каждые пять минут»
... Я порадовалась за Спартака Васильевича, что есть у него настоящий друг и надежная семья; поняла, что главное в этот человеке — доброта и любовь к людям, и от души пожелала ему новых ролей в его родном театре, а нам новых встреч с любимым артистом.Оказывается...

Наука и спорт
Высокие достижения спортсмена зависят не только от физической формы, но и от того, как он экипирован. Спортсмен может и не знать, сколько всяких ноу-хау вложено в его победу.Присоединяйтесь
Сколько можно понукать стреноженную лошадь?
Как проводить аграрную реформу? На что делать ставку? Какой путь эффективнее, быстрее приведет к успеху? Мнения самые разные, в одном только сходятся почти все: старая система не способна накормить страну. Нужны радикальные перемены. С этим не согласны теперь только самые безнадежные консерваторы.
Разные варианты решения проблемы предлагают авторы двух публикуемых ниже статей. С ними можно не соглашаться, спорить. На это и рассчитываем: ведь, как известно, в споре рождается истина.
Оно, конечно, пороть мужика нехорошо, но что мы можем предложить ему взамен? Помещичья острота, популярная накануне освобождения крестьян в 1861 году
КОМАНДИРОВКА в Удмуртию получилась напряженной: побывал и в хозяйствах, и на фермерских усадьбах, и в арендных бригадах. Беседовал с предпринимателями и их оппонентами — райкомовцами, встречался с первыми лицами в Верховном Совете и Министерстве сельского хозяйства республики... Впечатление такое, будто проехал по всей стране. Та же драматичность ситуации, те же хозяйственные, финансовые, организационные беды, тот же полярный разброс мнений, оценок, кризисный накал конфликтов...
И вот что интересно: чем-то очень знакомым повеяло, будто где-то я читал о подобных временах или слышал... Дома взял один из томов старого словаря братьев Гранат и залпом проглотил статью «Освобождение помещичьих крестьян в 1861 году».
Просто поразительно, как созвучны «мотивы» той далекой поры и нашей жизни. «В царствование императора Николая фактическое положение крепостных крестьян продолжало ухудшаться... На барщине крестьяне менее старательно обрабатывали землю, бесплодно терялось время, урожайность земли падала... Государь Александр Второй принял предводителей дворянства и сказал: лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу... Намерения правительства вызвали у дворянства непритворный страх... Раздавались мнения, что к освобождению крестьян следует приступить без крутых и резких поворотов... что крестьянин не сможет жить самостоятельно, пропадет без покровителя-помещика... Некоторые предлагали безземельное освобождение крестьян или отпущение их на оброк без наделения земли... Высказывались и за то, чтобы помещики сохранили право вотчинной собственности на землю, но при этом крестьянам было отведено в пользование определенное количество земли за соразмерные повинности, оброк, а также посредством договоров. Впрочем, тогда хлебопашцы без земли попали бы в тягостнейшую зависимость от землевладельцев и были бы их полными рабами... Право свободного состояния и усадебную оседлость, на выкуп наделов наиболее недальновидными дворянами отрицались...»
Прислушайтесь, прислушайтесь!.. Разве не доводится слышать нам сейчас подобных доводов? Дескать, наш крестьянин пропадет без покровителей — партийных «управляющих», председателей и директоров и способен прожить лишь в качестве арендатора под крышей колхоза или совхоза. И не надо ему предоставлять право на выкуп наделов, то бишь вводить частную собственность на землю. И вообще — все надо делать без крутых поворотов, постепенно...
В Удмуртии сторонников подобных воззрений тоже немало, и, конечно же. занимают они ключевые посты. Так. председателем комитета по земельной реформе назначен бывший секретарь обкома, бывший председатель агропрома республики Ю. С. Зайнаков. Минсельхоз возглавляет П. Н. Вершинин, который прежде «занимался селом» на посту заместителя председателя Совмина республики...
Ну, да теперь пришла пора заняться крестьянскими хозяйствами, есть такое указание, цели ясны, задачи определены — за работу, товарищи! Мы, как говорится, и не такие дела заваливали.
Но для меня был особый «подарочек». Еще в доперестроечное время пришло в газету «Советская Россия» письмо от отчаявшихся коммунистов из Малопургинского района Удмуртии с призывом о помощи. Первый секретарь райкома Валентин Кузьмич Тубылов творил произвол с размахом и безо всякой оглядки на какую-либо человеческую и партийную этику. Не жалел даже ближайших сподвижников, стоило им лишь усомниться в его действиях. Я приехал в район в качестве спецкора газеты, разбирался, написал большую статью. После публикации был шум. Собиралось бюро обкома под предводительством тогдашнего первого секретаря Грищенко. «Засветившегося" хозяина района «наказали»: сделали директором совхоза-техникума. Впрочем, это был обычный прием — вывести из-под удара «своего» человека.
А нынче, приехав в республику, я узнал: отлично здравствует мой «герой». И хотя мне хорошо знакома практика попустительства в отношении номенклатурных деятелей, головокружительная карьера Тубылова привела меня в совершенное изумление. Он стал даже не первым секретарем райкома, даже не главой правительства — бери выше! Валентин Кузьмич теперь — председатель Верховного Совета Удмуртии.
Когда я рассказал об этом руководителю Ассоциации кооперативов и крестьянских организаций (АККО) Геннадию Васильевичу Маурину, тот не особенно удивился:
— Структура власти, принципы отбора кадров у нас ничуть не изменились. Людям с другим мышлением нет хода наверх. Инициаторы перемен, пытающиеся что- либо переделать, представляются общественному мнению чужаками, монолитная бюрократическая стена трещину не дала.
За примерами далеко ходить не надо. Местная АККО объединяет около ста фермеров, это самодеятельная организация, зарегистрированная год назад в Совмине республики. Идут туда люди решнтельные, предприимчивые. Там не обещают — там говорят правду: техники нет, стройматериалов нет, поддержки властей никакой, но! — крутись сам, вот тебе адреса, телефоны — договаривайся. Если не утонешь на первых порах, не передумаешь,— тогда ты наш человек, будем работать вместе и дальше.
Существует, правда, и другой вариант: попасть под крылышко ассоциации крестьянских фермерских хозяйств (АКФХ). Тут весьма приветливы, на обещания не скупятся, охват широкий — записывают и тех, кто уже получил акт на владение землей, и арендаторов, и просто пожелавших взять участок. Всех — до кучи! Тут полный ажур: поддержка республиканских партийных органов, поблажки в снабжении техникой и стройматериалами,— в общем, благожелательное отношение властей, которые конкурирующую АККО аттестуют «самозванной конторой, созданной шустрыми кооператорами».
Читатель вправе меня заподозрить в симпатиях к самодеятельным фермерам и нелюбви к аппаратной АКФХ. На эту тему можно было бы порассуждать, посетовать на раскол крестьянского движения, инспирированный партийной верхушкой. Но разве только в этом дело? Разве не понятно, что суть глубже: государство не желает видеть в крестьянине свободного человека? Оно вроде бы пестует его, говорит: лежи в моей качалочке, дитя, я тебя спеленаю и буду кормить молочком из своей бутылочки. Не беда, что она наполовину пуста и молочко похоже на сырую водичку. Только ты сам не вздумай ходить — пропадешь без меня.
Конечно, наш новорожденный фермер не имеет ничего, он гол как сокол. А значит, должен быть, по мнению властей, крепко привязан к агропромовской телеге. И зависеть от подачек властей. Всякая мысль об экономическом либерализме, естественном отборе жизнеспособных хозяев, свободном предпринимательстве, конкуренции выхолащивается, убивается в зародыше.
Прислушайтесь! «Мы выделим пятнадцать гектаров единоличнику,— говорят в Совмине республики,— а где отдача? Где гарантия, что он даст продукцию? Кто его заставит делать это?!»
Даст. Гарантия. Заставит. Любимые слова верхушки. Они в крови. Так должно быть, потому что по-другому быть не должно. «Крестьянин не сможет жить самостоятельно... Пропадет без покровителя...»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ кооператива «Колос» Николай Георгиевич Девятое купил запущенный пионерский лагерь городского хлебозавода и решил в нем откармливать скотину, перерабатывать мясо на колбасу и окорок, заготавливать корма, развивать подсобные промыслы. Кредит взял в АККО — 40 тысяч рублей. Согласитесь — размах!
— Мне странно слушать,— рассуждает он,— как иные люди с гордостью говорят: я 30 лет проработал на одном месте. Что же тут хорошего? Ну, был ты винтом, 30 лет тебя закручивали в одну сторону. Ну и что? Меня жизнь многому научила. Жил в деревне и не гнушался никакого дела. Поехал на Дальний Восток, стал судовым механиком. Плавал. Потом — на заводе работягой, бригадиром. Потом — в горячем цехе. Потом — кооператор, предприниматель. А теперь фермер.
- Мы ходили по его пионерлагерю, и, честно говоря, мне Девятов поначалу казался прожектером. А люди, фонды, техника, силы — откуда?
— Компаньоны у меня есть, по конторам всяким побегал — кое о чем договорился. Но по-другому жить — значит прозябать! Конечно, препятствий будет немало. Общество у нас не готово к переменам. Никто — ни власти, ни обыватели. Но надо как-то пробудить людей, наделенных организаторскими способностями и хваткой. Разве могут все поголовно стать фермерами? Или предпринимателями? Нет, конечно! Глупо бросать лозунг в советском стиле: «Все как один станем бизнесменами!» Не нужен очередной массовый поход за счастьем. Но каждому надо дать шанс попробовать стать кузнецом собственного достатка. И если уж государство сказало «а», то пора бы ему и сказать «б».
Когда большевики отнимали землю, когда сгоняли скот и людей в колхозы, когда выбирали подчистую семенное зерно, действовали они решительно, без оглядки. Почему же сейчас не нашлось у союзного правительства решимости, чтобы принять простое постановление: «Каждого желающего выделиться из колхоза или совхоза обустроить (перечень). Каждому желающему, вернувшемуся в село, выделить (перечень). А каждому горожанину, пожелавшему арендовать или купить,— сдать в аренду или продать (перечень условий, на которых сдать или продать)»?
Кстати, об аренде. Призывы к окончанию войны с мужиком и союзу его с директором совхоза или председателем колхоза находят отклик. Есть также руководители, которые не слишком озабочены собственными амбициями и пытаются выгоду искать как для хозяйства, так и для страны на основе честных договорных отношений с арендаторами.
Хорошо. Бог им в помощь. Но почему-то даже эта редкая производственная любовь часто кончается шумным, скандальным, болезненным разводом. Так, в совхозе «Гигант» Селтинского района бывший председатель соседнего колхоза Александр Демьянович Поторочин, человек, сами понимаете, бывалый, оставил свою должность, набрал рукастых ребят и попросил отдать ему на откуп умирающую деревню Рожки, чтобы возродить ее, как сможется. Директор совхоза заключил с ним арендный договор, мол, если вы, ребята, без нашей помощи и «на пупке» что-то там в Рожках сделаете, то получите то, что там заработаете, за вычетом арендных платежей.
И представьте себе: люди заработали на бычках, на бартерных обменах «мясо — кирпич», четыре дома построили, поназва-ли переселенцев, привадили их. Вроде бы все гоже: совхозу из заброшенной деревеньки, на которой крест поставили, прибыль пошла. Но захотелось директору, бухгалтерии совхозной, строгим инспекциям из района чужие денежки посчитать. Что это там Поторочин и из каких источников людям выплачивает? Говорят, он из кармана деньги достает и безо всякой ведомости отсчитывает. А мы ведомость заведем, да поглядим, да осадим «капиталиста»: рубли-то у нас государственные, им чужой глаз нужен.
— И что получилось? — вздыхает переселенец Василий Аркадьевич Ходырев.— Я сюда с женой приехал, домик купил, думал — наконец-то свободным поживу, заработаю, нам-то от Поторочина заработок сподручно было получать. На нем вся финансура держалась. А теперь? Сыр-бор, ругань, все порушено...
Сколько таких историй? И если я расскажу еще одну — о замороченном арендаторе или затоптанном фермере,— это будет лишь очередной иллюстрацией к картине саботажа крестьянской реформы, неудача с которой все быстрее приближает нас к аграрной катастрофе.
ДА, БЛАГИЕ пожелания и призывы дела с места не сдвинут. Нужен механизм перехода к единоличному владению землей.
Рецепт консерваторов известен: постепенность, развитие разных форм собственности, но под крышей совхозов и колхозов, контроль верхов, ставка на государственных крестьян, единоличник — лишь дополнение, пятое колесо в агропромовской колеснице.
Наиболее решительная и предприимчивая часть деревни, мигранты-горожане, пускающие корни в селе,— за радикальное преобразование аграрного сектора, свободное предпринимательство, конкуренцию, создание ассоциаций, кооперативов, малых предприятий. Иного, убежден, не дано: экономические законы неумолимы, отменить или переделать их невозможно, как законы природы. Это мы доказали всей своей советской историей.
Наконец, осторожное, затурканное большинство готово остаться в колхозе-совхозе, но просит, чтобы соток к приусадебному хозяйству прирезали, выпасы для личного скота расширили да зарплату повысили.
Власти всю эту «разноголосицу» не воспринимают и ставят крестьянина перед выбором: либо иди в фермеры, либо оставайся в хозяйстве; либо в «нашу» ассоциацию, либо — в «ихнюю»; либо бери 15 гектаров и колупайся как хочешь, либо сиди и не рыпайся.
Сколько нам еще воевать с мужиком? Сколько пытать его: ты за «красных» или за «белых»? Он и так задерган, замучен назойливой опекой государства, которое десятилетиями указывало ему путь к счастливой жизни. Хватит! Стреноженную лошадь понукать бесполезно. Ожидать от нее прока, отдачи — глупо. Предоставьте крестьянину свободу выбора, дайте ему оглядеться, попробовать тот или иной вариант. Хочет с наделом оставаться
в колхозе — пусть! Хочет с пятью сотками работать наособицу — пожалуйста! Хочет большое дело завести — в добрый путь! Дадим ему счет в банке, статус юридического лица, право продавать продукцию по рыночным ценам— и крестьянскому наплевизму придет конец.
Законы Союза и России говорят разное, вопросов — море, но в районах, а тем более в деревнях, мало даже среди начальства людей, хоть сколько-нибудь разбирающихся в законодательных новациях. И «верхи» и «низы» юридически безграмотны. Никто ни за что не отвечает, никто ни с кого спросить не может. Отдельной строкой из фондов фермерам ничего не выделяют, по-прежнему реальной самостоятельности у колхозов и совхозов — никакой, с них хомут госзаказа и госналога и не думают снимать. В такой обстановке ропщут даже люди весьма умеренных взглядов. И высказывают такие мысли.
— Не с полей, а с людей надо начинать,— считает председатель колхоза «Труженик» Николай Степанович Соловьев.— Надо быть распустить нас большим указом, сказать: товарищи колхозники, вы должны начать новую жизнь. Не будет над вами никакого начальства, решайте сами — быть вместе или порознь, а если вместе — то с кем. По закону Российского парламента, принятому в конце прошлого года, нам достаточно назвать себя ассоциацией и — не нужно платить налогов, можно сократить госзаказ. Но мы, колхозники, боимся это сделать! Выходит, мы тоже виноваты в своих бедах, потому как разучились принимать решения.
ПЕРЕД отъездом была у меня беседа с Павлом Николаевичем Вершининым, министром сельского хозяйства Удмуртии. Я ожидал заинтересованного, резкого разговора о проблемах и бедах. Министр не только курирует отрасль, но, наверное, и болеет за нее, рассуждал я. По крайней мере он владеет информацией.
Вершинин, однако, всего-навсего посетовал на дефицит и предположил: улучшения со снабжением не предвидится. Почему?
— На уровне республики проблемы не решить. Фонды в руках центра... Надо просить... Нужны перерабатывающие мощности... Денег нет... И будет их еще меньше... Но мы надеемся... Провели конференцию руководителей хозяйств...
Впечатление полной беспомощности министра. Павел Николаевич, мне показалось, просто-напросто не владел обстановкой. А может быть, ему все равно,— что там творится внизу, под его кабинетом? Вот телефон. Вот бумажка-отчет. Вот билет в Москву на очередное совещание... Так он и раньше работал — вяло, с обреченным автоматизмом.
«С одного, даже худого, медведя две шкуры не сдерешь»,— вспомнилась мне ехидная поговорка. Грустно. Неужели только голодуха заставит нас решительно поумнеть?
Новости

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» и переехала в Москву

Поклонники спорят: Юлия Проскурякова беременна или нет

Ольга Ушакова: «Зрители нас раскусили»

Максим Виторган: «Я был на свадьбе Ксении Собчак»

Шурыгина разводится с мужем из-за другого мужчины
Сейчас обсуждают

Травой по коже
комментариев: 3

Ароматерапия, или лечение с помощью запахов.
комментариев: 1

Апрель — зимоборье
комментариев: 1

Мигрени
комментариев: 2

Не хочет учиться?
комментариев: 1

Муж беременной жены
комментариев: 2

6 вопросов о коликах у младенцев
комментариев: 1
Самое популярное

Сколько раз "нормально"?
Не ждите самого подходящего времени для секса и не откладывайте его «на потом», если желанный момент так и не наступает. Вы должны понять, что, поступая таким образом, вы разрушаете основу своего брака.

Лучшая подруга
У моей жены есть лучшая подруга. У всех жен есть лучшие подруги. Но у моей жены она особая. По крайней мере, так думаю я.

Хорошо ли быть высоким?
Исследования показали, что высокие мужчины имеют неоспоримые преимущества перед низкорослыми.

Подражание и привлекательность.
Если мы внимательно присмотримся к двум разговаривающим людям, то заметим, что они копируют жесты друг друга. Это копирование происходит бессознательно.

Как размер бюста влияет на поведение мужчин.
Из всех внешних атрибутов, которыми обладает женщина, наибольшее количество мужских взглядов притягивает ее грудь.

Почему мой ребенок грустит?
Дети должны радоваться, смеяться. А ему все не мило. Может быть, он болен?

Если ребенок не успевает в школе.
Школьная неуспеваемость — что это? Лень? Непонимание? Невнимательность? Неподготовленность? Что необходимо предпринять, если ребенок получает плохие отметки?
Гороскоп
- Семья и дети
- Отношения
- Красота и здоровье
- Дом и быт
- Досуг и хобби

Комментарии