Интервью
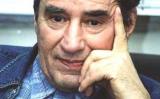
Спартак Мишулин: «Людям надо говорить хорошие слова каждые пять минут»
... Я порадовалась за Спартака Васильевича, что есть у него настоящий друг и надежная семья; поняла, что главное в этот человеке — доброта и любовь к людям, и от души пожелала ему новых ролей в его родном театре, а нам новых встреч с любимым артистом.Оказывается...

Наука и спорт
Высокие достижения спортсмена зависят не только от физической формы, но и от того, как он экипирован. Спортсмен может и не знать, сколько всяких ноу-хау вложено в его победу.Присоединяйтесь
Зачем мятутся народы?
В Башкирии немало и украинских, и русских, и чувашских, и мордовских. и татарских поселений. В разное время застраивались они.
Мою деревню, например, обосновали в самом конце прошлого века переселенцы из Полтавской губернии. В их числе были и предки мои, дед Тимоха и бабка Оксана. Поселялись, не потесняя коренных жителей, а приобретая у них за выкуп свободные земли — никому никаких обид, никаких ущемлений. Не военными поселенцами шли они сюда, а вольными хлебопашцами.
Я не помню, пела ли мне мать колыбельные песни, но прочно врезались в память рассказы-воспоминания о том, как обживали эту землю, как мучились, радовались, плакали и смеялись. И всякий раз в воспоминаниях мелькали имена или прозвища коренных жителей окружающих башкирских деревень. Никого из них я до поры не знал, никогда не видел,— все башкирские деревни были далеко за речкой,— однако в сознании моем эти люди оставили добрый след: они чем могли помогали переселенцам, выручали из беды, теплом крова своего, а то и одежонкой спасали от погибели замерзавшего в пути человека.
Первым из башкир, которого я увидел, был Бекташ. Последний кочевник, к тому времени он уже не имел ни юрты, ни коня, а все хозяйство его умещалось в заплечной котомке. Но это не мешало ему побывать за лето в деревнях чуть ли не всего района. Нет, он не бьи побирушкой. Бекташ бьи добровольным разносчиком устной почты, добросовестнейшим собирателем и распространителем вестей.
В деревне его ждали, и если лето подходило к концу, а Бекташ все не появлялся, бабы начинали тревожиться, строить самые разные домыслы, которые с каждым днем становились все страшнее.
Но вот Бекташ входил в деревню — и ребятня со всех ног пускалась по улице, чтобы у каждого двора возвестить: «Бекташ идет!» Раскланиваясь, прижимая руку к сердцу, он двигался почему-то к нашей хате, сюда же, побросав незавершенные дела, устремлялись и женщины.
Бекташ, желаннейший гость всей деревни, присаживался к столу, на который мать выставляла из печи горячие щи. Женщины, а их набивалась полная хата, смотрели на него как на родного человека, вернувшегося из дальних странствий. И начинались рассказы о житье-бытье живущих далеко отсюда людей. Удивительное множество имен и событий сохранял он в памяти и теперь осчастливливал вестями слушательниц: у одной где-то далеко брат жил, у другой сестра, у третьей и мать, и отец, и братья с сестрами. Всех Бекташ повидал, со всеми разговаривал, от каждого заветные слова и поклоны передавал.
Гостил Бекташ и по неделе, и по две. Хозяева, уходя днем на работу, оставляли на него и хату, и хозяйство, и нас, ребятишек, не запирая от Него ни сундуков, ни чуланов — случая не бьио, чтобы он к чему-нибудь притронулся. Зато по хозяйству помогал прилежно: и дрова переколет, и хлев почистит. Порассказав все, что знал, вызнав все здешние новости, он покидал нашу деревню — с этими новостями его ждали где-то в других местах, в других деревнях и селениях: в украинских, в русских, в башкирских.
Сейчас думаю: он, как старательная пчелка, облетал округу не только для собственного пропитания. Бекташ сближал людей, сдружал собравшихся на этом пространстве земли разноплеменников. От их же рук и погиб.
А случилась беда эта так. В одну из деревень он пришел ночью. В знакомой хате, где он всегда останавливался, гуляли. Неведомо как случилось, что Бекташ перепутал двери и вместо хаты попал в пристройку для живности. Куры, которых он потревожил в темноте, подняли переполох. Пьяные мужики повскакивали из-за стола и кинулись в пристройку, где и навалились в беспощадной одури на «вора». Очувствовались, когда тот затих. Принесли лампу — и отрезвели от содеянного, ужаснулись: на соломе лежал мертвый Бекташ, никогда не бравший чужого.
Скорбная эта весть металась по округе несколько лет, залетала в соседние районы, выискивая тех, кто знал покойника, вызывая в их душах печаль. Наша семья к тому времени уже жила далеко от тех мест, на железнодорожной станции, однако весть эта долетела и до нас. Не думал я тогда, что ничем, казалось бы, не примечательная жизнь Бекташа, человека без определенного места жительства, оставит след в наших душах, в нашей памяти, изрядно перегруженной великим множеством событий, встреч и проблем.
Не знаю, может, вот так, на бытовом уровне, и формируется уважительное отношение к людям, а через них к нациям. Во всяком случае, в детстве, а потом и в юности, друзья мои были просто друзьями: одного звали Колькой, другого Раилем, третьего Табрисом, четвертого Оськой. Нет, случалось, и мы вспоминали, что каждый из нас имеет национальность. Но это бывало, когда никакими другими словами не отплатить обидчику, выкрикивалось: «У, хохол!» Это — мне. А я в ответ: «А ты башкирин» (или мордвин, кацап, еврей, татарин). Обижались? Ну, а как же. Но вскоре одумывались, здраво рассуждая, что так и есть, я действительно хохол, а он башкирин (или мордвин, кацап, еврей, татарин), и это значит, что обидного в наших выкриках было не больше, чем если бы мы обменялись упреками: «А ты человек!» Я не придумываю, дети действительно философы. Во всяком случае, иногда докапаются до истины гораздо быстрее многих партийных лидеров, предводителей толпы и завзятых ораторов.
Бывали, конечно, и посерьезнее стычки «на межнациональной основе», как оценили бы теперь. Каждый август вся наша орава,— я, Колька, Раиль, Табрис, Оська и еще пять-шесть «представителей» разных народов,— отправлялась в лес по орехи за двенадцать километров от нашего поселка. А ватагой мы собирались потому, что надо было проходить через большую башкирскую деревню, улица которой всегда кишела драчливыми мальчишками. Всякий раз с возгласами «урус» они сбегались навстречу. Сначала в их глазах было любопытство: «Так вот они какие, русские!» (Это мы-то русские! Мы — ярчайшее смешение народов, дружно сожительствующих в прекрасном нашем поселке Шафраново, основателем которого был башкирин по имени или кличке Шафран.) Насмотревшись на нас, пришедших, по их тогдашним понятиям, из другого мира, где ходят поезда, наш «эскорт», все более разрастаясь, начинал охватывать нас со всех сторон и сжимать кулаки.
По-разному вырывались мы из воинственного этого окружения, грозившего побоями. Или дером, если путь впереди не был перекрыт. Или всем своим видом показывали, что нас хоть и меньше, но нам, поселковой шпане, сам черт не брат. Но чаще прибегали к испытанному способу: завидев у какого-нибудь двора сидящего на скамеечке аксакала, мы спешили к нему, ища у него защиты. Аксакал никого из нас не знал, да и мы вроде бы никогда его не видели, однако всякий раз он брал нас под решительную защиту, грозя не только словами, но и палкой нашим преследователям.
За деревней, когда опасность оставалась позади, мы принимались припоминать, что говорил аксакал, как он грозил надрать уши всякому, кто хоть пальцем тронет русских. И друг друга убеждали, что так и надо жить, что мы тоже не будем трогать никого из чужих, приезжающих на базар, в магазин, на станцию.
Лесник Хаким, поставивший на огороде просторную баню и часте топивший ее,— дров вволю было только у него,— сам обходил соседей, приглашая попариться. Даже не так. он не приглашал, а почти уговаривал, просил уважить его, поскольку тепло и горячая вода пропадут зря, без пользы добрым людям. Разумеется, никакой платы не принимал, от благодарностей отмахивался.
Скажете, да, в Великую сушь звери на водопое тоже не трогают друг друга. Не согласен с таким сравнением, потому что так мы жили не только в тяжкую годину войны, но и после нее. А когда в домах начал появляться кой-какой достаток, людям словно бы хотелось еще и добрее стать, добротой своей других осчастливить. На праздничных застольях самым почетным гостем в башкирском доме был русский. И неважно — при должности он или, как говорится, при метле, знает или не знает башкирский язык, усвоил национальные обычаи или нет.
Наверное, нарисованная мной почти идиллическая картина отношений между людьми разных национальностей может сегодня показаться неправдоподобной, особенно молодежи, которая буквально «дышит» воздухом межнациональных распрей. Но все, о чем я здесь пишу,— правда. Так было! И значит, так может и должно быть, если все мы будем стремиться к согласию.
Пусть читатели не заподозрят меня в наивном прекраснодушии: я далек от мысли, что мои детские воспоминания, ограниченные к тому же рамками родной Константиноградовки, можно впрямую отождествлять с тем, что происходило в то время в стране. Угли межнациональных конфликтов тлели, разгореться им не позволяла тотальная система принуждений, репрессий, массового оглупления людей. За парадным фасадом «братской дружбы народов» скрывалось явное пренебрежение к национальным традициям и культуре, подавление малейших проблесков национального самосознания, больше того— объявление целых народов врагами государства. Теперь мы пожинаем горькие плоды сталинской национальной политики.
Но будем справедливы: немалую долю вины за отчуждение и вражду несем и все мы, все общество.
В те же сороковые и пятидесятые годы, о которых вспоминаю, хирели и ликвидировались национальные школы: башкирские, украинские, татарские. И хирели они не только из-за невнимания местных властей. Просто ученики уходили из этих школ в русские. Их уговаривали, их не принимали — учись в своей. Они, плача горючими слезами, шли домой, чтобы вернуться к директору с отцом или с матерью. Родителей убеждали: сын ваш, дочь ваша хорошо учится в своей школе, где преподают на родном языке. А тут придется переучиваться, потерять один, а то и два года... Редко кого удавалось отговорить.
Новичков этих мы так и узнавали: по заплаканным глазам, но уже сиявших от счастья: приняли!
Как же старательно они учились! Некоторые через год-два обходили многих из нас по всем предметам, становились лучшими учениками, примером нам, не понимавшим своего счастья говорить и учиться по-русски. Да, именно так. И монологи о великом и могучем русском языке произносили они гордо, как клятву.
Кстати, читатели наверняка слышали подобные монологи совсем недавно: и в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов. Помните? Да, их произносили с трибун коллеги мои, известные писатели, явившиеся зачинателями национальных литератур.
Все-таки забывчивы люди! Прошло всего несколько лет, и вот уже уверяют меня, что национальные школы в республиках были ликвидированы чуть ли не с великодержавным умыслом. И, не странно ли, люди верят. Поверил бы и я, если бы среди моих друзей детства не было тех, кто плакал сначала от горя, а потом от радости. И хочется мне спросить их: неужели та радость была принужденной? Или за давностью напрочь забыли?
Да, я хорошо понимаю весь ужас образованного человека, обнаружившего однажды, что его народ забыл родной язык. Нет, соплеменники не онемели, они изъясняются между собой, но изъясняются почему-то на языке другого народа.
Ты слышишь, что это говорят именно твои соплеменники, но узнаешь их лишь по тому акценту, с каким они произносят русские слова, выговаривая их по-своему, переиначивая и коверкая.
Ты вслушиваешься в эту речь и поражаешься: до чего она скудна, невыразительна и неграмотна, до чего же беден словарный запас.
Ты пытаешься заговорить с ними, своими соплеменниками, на родном языке, на языке предков своих, но с ужасом обнаруживаешь — не понимают тебя.
Ты просишь их воссоздать на бумаге хоть одну строку из народного эпоса, но просьба твоя неисполнима — не умеют писать на родном языке ни дети, ни молодые отцы их и матери.
Тебе становится страшно: думы этих людей, забывших родной язык, но не овладевших в совершенстве и чужим, не могут быть глубоки, мысли их примитивны, мелки, а чувства — куцые.
Ты оглядываешься по сторонам и видишь: культура больших городов в упадке из-за наплыва большого количества безъязыких людей: они на улицах, в транспорте, в театрах. Они не понимают высокого искусства, глубокой мысли, классической музыки, истинной поэзии. Они требуют понятного. А так как понятнее всего пошлость, то пошлость и процветает, называемая то раскованностью, то непосредственностью, то правдой жизни.
Страшно, когда дети перестают понимать своих родителей. Еще страшнее, когда они, оставаясь на земле предков, перестают говорить на языке своего народа, своих поэтов.
Однако вспомните, как всеми правдами и неправдами родители выталкивали выучившихся детей своих из деревни в город: кого на счастье, кого на горе. Разве политики этого хотели? Нет, политики всячески препятствовали этому процессу, издавали строжайшие запреты, не давали деревенским жителям паспортов — все напрасно. Социальные условия и бесправие побуждали людей рваться в города.
Конечно, со школами, с языком сложнее. Но причина, думается, в том же — в социальных условиях: со знанием русского языка люди обретали возможность получить хорошую специальность, поступить в институт, сняться с места,— будь оно проклято,— и уехать в другой край страны. Кстати, недавно известный председатель чувашского колхоза Аркадий Павлович Айдак так и сказал: «Наши деревни не обезлюдели в прежние годы только потому, что чуваши плоховато владели русским языком, без которого дальше Чувашии не уедешь».
И все же не только эти причины толкали в русские школы. Было то, что можно назвать порывом, но можно и всеобщим помрачением. Не понаслышке знаю, что в многоплеменной среде всякий язык, кроме русского, воспринимался этой же средой за явный признак необразованности, деревенщины. На говоривших на родном (деревенском!) языке смотрели насмешливо. Даже свои соплеменники, особенно молодые.
Приведу вам характернейший, как мне кажется, пример. Моя мать, украинка, переехала в Башкирию в девичьем возрасте, так что и здесь продолжала говорить на родном языке, пусть и изрядно засоренном русскими, башкирскими и татарскими словами. Так ее и звали тут все: «хохлушка Елена». И вот на старости лет едет она к сыну на родную Украину. Походила, погуляла по городу, по уютному Николаеву, вечером сын и спрашивает ее, понравилось ли ей тут. Она горестно (мол, и куда же ты, сынок, заехал), со вздохом отвечает: «Нет, у нас в Шафраново люди культурнее». Сын онемел от этих слов, а мать пояснила: «Идут мамзели в шелках, глаза и губы намалеваны, кудри начесаны, а сами по-хохлацки наворачивают». Ей объясняли, что это же Украина, и вполне естественно, что украинки даже в городе говорят по-украински. «Нет,— категорически возражала хохлушка Елена,— это простительно мне, неграмотной, а все грамотные и культурные, да еще живущие в городе, говорят по-русски».
Так и осталась она при своем убеждении.
Что, и ее, деревенскую неграмотную женщину, будем обвинять в великодержавном притеснении других народов и языков? И ее обвиним в имперском мышлении?
Кстати, примерно так же думали и все те отцы-матери, которые брали за руки своих детей и уводили их из национальной школы в русскую. При этом намерений своих они и не скрывали, а выражали вслух: «Пусть мы сами прожили в темноте, пусть сами неграмотные, но дети наши станут учителями, врачами, инженерами». Пожалуй, именно поэтому так щедры были все, когда появлялся на наших улицах нищий (молва утверждала, что он был когда-то крупным помещиком), который никогда не просил, но всегда получал подаяний гораздо больше своих собратьев — он каждому мальчишке, даже самому сопливому и рваному, сулил счастливое будущее примерно такими словами: «Учись, будешь большим человеком, станешь генералом, а в доме твоем будет много добра, масла, сахара и шоколаду-мармеладу». Как же это грело душу чадолюбивых родителей!
Вот поэтому я и сказал, что с языком все сложнее. Мне кажется, корень зла тут в сложившейся системе ценностей, истинных и ложных, в системе взглядов, целей и идеалов, сформированных временем. И никакими взаимными обвинениями перекосы эти не изжить, но можно лишь запутать их, втиснуть в круг политических драк, националистических страстей, которые ведут в пропасть.
Так вправе ли мы обвинять родителей наших, искренне желавших счастья нам, детям своим? А может, если уж виноватых искать, себя и упрекнуть надо в первую очередь? Ведь нас никто не понуждал так уж совсем отворачиваться от родного языка, никто не мешал нам хотя бы в семье, в кругу соплеменников своих не щеголять «образованностью», а говорить на языке предков своих.
Победить межнациональную рознь может лишь добрая воля людей, осознавших себя истинными дочерьми и сыновьями своего народа и в то же время понявших, что его традиции и культура ничем не лучше и ничем не хуже традиций и культуры других народов. Помогать этой доброй воле, а не виноватых искать — вот задача всякого интеллигента, политика и воспитателя, задача всякой власти. Потому и вынес я в заголовок вопрошающие и предупреждающие слова из Евангелия: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»
Прислушаемся же к этому предостережению.
Новости

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» и переехала в Москву

Поклонники спорят: Юлия Проскурякова беременна или нет

Ольга Ушакова: «Зрители нас раскусили»

Максим Виторган: «Я был на свадьбе Ксении Собчак»

Шурыгина разводится с мужем из-за другого мужчины
Сейчас обсуждают

Травой по коже
комментариев: 3

Ароматерапия, или лечение с помощью запахов.
комментариев: 1

Апрель — зимоборье
комментариев: 1

Мигрени
комментариев: 2

Не хочет учиться?
комментариев: 1

Муж беременной жены
комментариев: 2

6 вопросов о коликах у младенцев
комментариев: 1
Самое популярное

Сколько раз "нормально"?
Не ждите самого подходящего времени для секса и не откладывайте его «на потом», если желанный момент так и не наступает. Вы должны понять, что, поступая таким образом, вы разрушаете основу своего брака.

Лучшая подруга
У моей жены есть лучшая подруга. У всех жен есть лучшие подруги. Но у моей жены она особая. По крайней мере, так думаю я.

Хорошо ли быть высоким?
Исследования показали, что высокие мужчины имеют неоспоримые преимущества перед низкорослыми.

Подражание и привлекательность.
Если мы внимательно присмотримся к двум разговаривающим людям, то заметим, что они копируют жесты друг друга. Это копирование происходит бессознательно.

Как размер бюста влияет на поведение мужчин.
Из всех внешних атрибутов, которыми обладает женщина, наибольшее количество мужских взглядов притягивает ее грудь.

Почему мой ребенок грустит?
Дети должны радоваться, смеяться. А ему все не мило. Может быть, он болен?

Если ребенок не успевает в школе.
Школьная неуспеваемость — что это? Лень? Непонимание? Невнимательность? Неподготовленность? Что необходимо предпринять, если ребенок получает плохие отметки?
Гороскоп
- Семья и дети
- Отношения
- Красота и здоровье
- Дом и быт
- Досуг и хобби



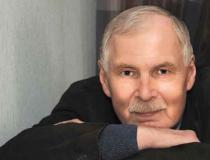

Комментарии